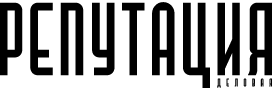— А что с линями-то делать? Тут, с ладошку примерно, килограмма полтора-два, — спрашивал Толик, копаясь в бредне.
— Бери, на всякий случай. — Закуривая китайскую Pine Tree, брательник мой предложил, — Сосну?
— Не понял, — говорю.
— Pine Tree — это сосна. Ты хоть и в школе городской учился, а ни хера не знаешь.
— Вот ты бы и предупреждал, что это существительное в винительном падеже, — сказал я, закуривая.
«Сосной», гидролизным спиртом и отчасти деньгами нам платили за строительство загонов для скота. Сигарет нам досталась целая коробка, и она выглядела отличной платой за труды, пока мы не закурили. То, что было внутри, совершенно не напоминало табак и отчетливо воняло жуткой смесью ладана и горелых тряпок. Этот запах пропитывал одежду насквозь. Неделю спустя мы воровали дядькин самосад, чтобы как-то перебить китайские ароматы. Но они въелись настолько, что от нас отвернулись девушки.
— Пойдем в ТПС, — предложил брательник, — предложим обменять эту дрянь хоть на «Ватру».
Так оно и случилось — меняли одну к двум, не в нашу, понятное дело, пользу.
Эту завалявшуюся в кармане пачку «Сосны» докуривали после рыбалки. В четыре утра мы разворачивали бредень. Дышалось у пруда как в бане, которую топили часов семь назад, помылись, да забыли проветрить. На конец одной из кляч водрузили граненый стакан, брательник шел последним, гребя, как Чапаев, одной рукой, второй он поднимал над водой бутылку напитка «Дебют».
— Карп, тяни, етит твою, поднимай! – орал Толик на Васю.
А тот показывал куда-то в сторону – гляди, мол. Из тумана выплывала серебристая лодка неофициального хозяина пруда Казанцева.
— Браконьерство, статья 256-ая, — сказал он тихо, словно чего-то опасаясь.
С кормы вынырнул брательник. Снял граненый с клячи, зубами сорвал бескозырку, налил и протянул Казанцеву. Тот молча опустошил, передал тару и двинул веслами куда-то в туман.
Ревизия улова показала, что это был не карп, а карась. Такого еще никому ловить не доводилось – почти 3,5 кило. Как знать, может, он еще помнил тех попов, что копали пруд – зелени на карасе было столько, что едва виднелась чешуя, а сам он был спокоен как безмятежно спящий ребенок.
— Вкусный, поди-ка, жирный, — мечтал Вася. — Линей взял, окуни с палец, два голавля, сорожки? – орал Толик.
— Все бери! – брат мой был в предвкушении.
Часа полтора спустя он недоумевал:
— Он болотом мне одному или всем воняет? Ерши вкуснее, чем этот карась.
Но мы жевали похожее на вату мясо, боясь признаться себе, что такого карася и любящие рыбу поросята жрать не станут.
— Чего делать будем? – спросил Толик.
— Уху, — ответил мой брат, — тащи все, что сегодня поймали.

Рецепт той ухи отразился в моей памяти нечетко. Воспроизвожу, как запомнилось. Останки невкусного карася были сварены отдельно – бульон на старце получился так себе. Пока он варился, мы чистили, удаляя весь ливер и головы, окуней, ершиков и линьков. Удовольствие – так себе, но уха того стоила. «Зеленую» рыбу в другом котелке обжарили в масле, благо, имелось в наличии. К ней, когда поджарилась, кидали все, что есть под рукой. Картошку – запамятовал сказать – в карась-бульон положили заранее, до «зеленой» рыбы. А к ней и овощам в самый последний момент, чтобы самую малость обжарилась, закинули «бель» – сорожек, голавлей, карасиков. Понятное дело, хорошо вычищенных. Когда и сколько мы кидали соли и перца, убейте, не помню. Ягодного, за неимением белой, лить не стали. Ограничились горелым полешком, которое, по-моему, все испортило. Я пробовал за минуту до этого рокового момента – есть бы до конца дней своих такую уху, и ничего больше не надо. Но приверженцы варварских традиций были в большинстве, и полешко зашипело в котелке.
Черт его знает, может, я так голоден был. Или это поджаренная «зеленая» рыба дала такой удивительный вкус? Но уха показалась мне никогда не пробованной «царской». Да и было мне – сколько? – двадцать лет, что я мог понимать в ухе? С ней – как в картах и любви – везет или нет.