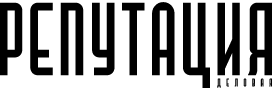Так назвал Лев Толстой написанное ровно 180 лет назад лермонтовское стихотворение «Бородино».
Вспомнить о нём стоит не только потому, что это хрестоматийное стихотворение написано в 1837 году к 25-летию Бородинской битвы и опубликовано в том же году в июньском номере журнала «Современник» («Литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его в пользу его семейства кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, кн. В. Ф. Одоевским и П. А. Плетнёвым. Том шестой. Сенктпетербург. В Гуттенберговой типографии»).
Вспомнить о «Бородино» стоит прежде всего потому, что оно поразительно точно доказывает: «поэт в России – больше, чем поэт». Если, конечно, перед нами поэт настоящий, то есть пишущий в согласии «с волей небесною». В нашем случае – в согласии с тем национально-историческим, национально-культурным единством, частью которого он себя ощущает. И с которым мы, похоже, постепенно утрачиваем живую и плодотворную связь.
 Осознание существования этого единства, его смыслового наполнения и, если хотите, «структуры» далось русской литературе нелегко. И одним из первых, кто начал эту трудную работу, был Александр Семёнович Шишков – писатель, адмирал и один из ведущих идеологов времён Отечественной войны 1812 года. Именно ему принадлежат практически все манифесты, подписанные Александром I с 1812 по 1814 годы.
Осознание существования этого единства, его смыслового наполнения и, если хотите, «структуры» далось русской литературе нелегко. И одним из первых, кто начал эту трудную работу, был Александр Семёнович Шишков – писатель, адмирал и один из ведущих идеологов времён Отечественной войны 1812 года. Именно ему принадлежат практически все манифесты, подписанные Александром I с 1812 по 1814 годы.
Манифесты, пользовавшиеся огромной популярностью во всех чинах и сословиях.
Среди них одним из самых сильных и точных был Высочайший манифест о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского от 25 декабря 1812 года: «Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твёрдости показала Россия! Вломившийся в грудь её враг всеми неслыханными средствами лютостей и неистовств не мог достигнуть до того, чтобы она хотя единожды о нанесённых ей от него глубоких ранах вздохнула. Казалось, с пролитием крови её умножался в ней дух мужества, с пожарами градов её воспалялась любовь к Отечеству, с разрушением и поруганием храмов Божиих утверждалась в ней вера и возникало непримиримое мщение. Войско, Вельможи, Дворянство, Духовенство, купечество, народ, словом, все Государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовию к Отечеству, колико любовию к Богу».
Вот это ощущение народа как «единой души», пылающей «любовию к Отечеству», точно переданное Шишковым, ощущение принадлежности каждого к национально-историческому «мы», которое окончательно оформилось и окрепло в Бородинской битве, и есть важнейший духовный, идеологический и геополитический итог Отечественной Войны 1812 года.
Позже это «мы» как обозначение разнообразного множество людей, спаянных «единой душой», появится у Пушкина. И тоже предстанет в его имперском изводе: обобщённое «мы» как нация победителей, наследников тех, кто одолел Наполеона и своею кровью искупил «Европы вольность, честь и мир», «мы» как «русское море», в которое должны слиться все «славянские ручьи»:
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас…
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?

Пушкин то ли не захотел, то ли не успел препарировать это «мы», рассмотреть его составляющие, но обстоятельствами своей смерти дал Лермонтову повод заняться подобным анализом.
В «Смерти поэта» Лермонтов, кажется, впервые в русской литературе обнаруживает в «мы» несколько иное содержание. Здесь оно предстаёт как национально-культурное единство, которое скрепляется преклонением перед гением Поэта-Пушкина и отделяется и от «него» (иноземца – убийцы Пушкина: «Не мог понять он нашей славы»), и от «них» – соплеменников, которые гнали и травили поэта.
Так национально-историческое «мы» обнаруживает свою внутреннюю неоднородность. Оказывается, что оно состоит из множества различных «голосов», которые складываются в «хор» лишь при определённых обстоятельствах, что состав этого «хора» и его «репертуар» будут меняться в зависимости от обстоятельств.
Это открытие связано (как тема отдельная) у Лермонтова, с одной стороны, с интересом к русскому фольклору, преданию, шире – к народной версии истории (не случайно практически одновременно с «Бородино» пишется «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и купца Калашникова», о которой тоже надо бы поговорить). С другой – с кризисом того, что называется романтическим сознанием. Уподобление другого себе («он как я») неизбежно оборачивается катастрофическими нравственными потерями (см. «Демон», «Герой нашего времени»).
Избежать их можно, «перевернув» ситуацию: не «он как я», а «я как он». Этот переворот открывает поэту другого человека как самостоятельную ценность. Он же позволяет искать и находить в этом человеке не только индивидуальные, отличающие его от других, но и родовые черты и свойства, сближающие его с другими.
Так и появляется в «Бородино» основной рассказчик: не известный герой, не полководец и не офицер, а «дядя», безымянный рядовой русский солдат, участник Отечественной Войны 1812 года и Бородинского сражения, коих было подавляющее большинство, но коим до Лермонтова мало кто интересовался, а слова вообще никто и никогда не давал.
И напрасно, потому что именно для этого, такого человека, любовь к Отечеству есть единственно возможный способ существования, нравственный инстинкт, не нуждающийся в «бантиках» философских обоснований или отсылок к авторитетам.
Этот безымянный рассказчик, выступающий как часть внеличного народного (национально-исторического и национально-культурного) целого, организует весь текст: война 1812 года предстаёт как народная, потому что увидена глазами одного из его представителей. Именно поэтому время, о котором рассказывает «дядя», – неопределённо-историческое, а место действия лишено конкретики («большое поле»).
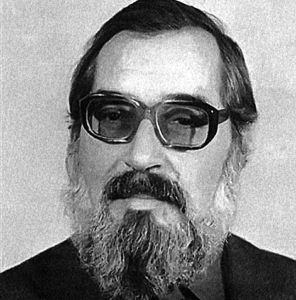 Перед нами, как удачно выразился советский и российский литературовед Вадим Вацуро, микроэпос, когда рассказчик видит себя, своих товарищей, врагов сквозь привычную, родную ему призму былины, герои которой обладают возможностями, существенно превышающими возможности обыкновенного человека.
Перед нами, как удачно выразился советский и российский литературовед Вадим Вацуро, микроэпос, когда рассказчик видит себя, своих товарищей, врагов сквозь привычную, родную ему призму былины, герои которой обладают возможностями, существенно превышающими возможности обыкновенного человека.
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.
Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…

Тот же фольклорный тип восприятия и передачи увиденного обнаруживается и в фольклорном типе поведения рассказчика и его «товарищей»:
Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.
Чтобы понять прелесть этого эпизода, нужно знать, что фольклорное поведение предпочитает жест слову. Отсюда картинность сцены («прилёг… у лафета», «кивер чистил», «штык точил… кусая длинный ус»). Даже «ворчание» здесь – не речь, а её имитация, подобие, данное в противовес чужому, не нашему поведению «француза», который «ликовал», то есть громко и открыто выражал своё состояние.
Удивительно: на рубеже XVIII–XIX веков в русской «высокой», письменной культуре завершилась эпоха героического индивидуализма. Но в фольклоре как самом ёмком и универсальном выражении русского народного самосознания она никогда и не начиналась. И Лермонтов прибегает к фольклорному типу повествования именно потому, что он позволяет обнажить то, что позже назовут «массовым героизмом».
Поэтому странными и труднообъяснимыми кажутся все, в том числе и школьные попытки конкретизировать рассказ «дяди»: определить точное место, где он принял бой, найти его прототипа, определить, кто именно тот полковник – «слуга царю, отец солдатам» –который произнёс классические слова «Ребята! Не Москва ль за нами? Умрём же под Москвой…».
Сам строй, сам смысл лермонтовского стихотворения противится такого рода конкретизации, потому что воспроизводит иной, внеиндивидуальный, родовой тип сознания, в котором ценность информации определяется не её конкретикой, а общим, разделяемым всеми смыслом.
Здесь, кстати, возможный ключ к недавним спорам вокруг «28 панфиловцев». Современные сторонники «исторической правды» в этом споре проигрывают советским идеологам периода Великой Отечественной войны, которые точнее понимали особенности народного восприятия подвига как символического действия. Главное, что помнит о панфиловцах народ, это фразу политрука Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва» (надо ли указывать на их перекличку со словами лермонтовского полковника?). Всё остальное имеет вторичное, подчинённое значение. А точнее – значения не имеет.
Лев Николаевич Толстой это очень хорошо понимал. Как и то, что родовое, общенациональное сознание, основанное на фольклорной традиции, и в первую очередь чувство патриотизма как нравственного инстинкта, рано или поздно столкнётся с индивидуальным, выросшим на иной культурно-идеологической почве.
«Бородино» изучают в младших классах, и это, наверное, правильно с воспитательной точки зрения. Но и в более зрелом возрасте стоит к нему возвращаться хотя бы для того, чтобы напоминать себе: фольклорное, внеличное сознание в России никуда не ушло, оно до сих пор составляет основу нашего менталитета, диктует нам систему оценок и поведение в ключевых эпизодах национального бытия. И игнорировать его или спорить с ним бессмысленно, а порой и опасно.