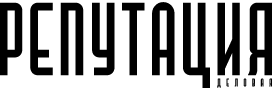Часть первая. Пельменные.
– Хорошо, что не вытрезвителей, – сказала жена, прочитав заголовок. – Тебе наверняка было бы о чём рассказать.
– Обсудим этот вопрос тет-а-тет, – попросил я, – не при детях.
Её неприязнь к теме понятна. Какая жена будет приветствовать нахождение мужа в рюмочной? Я знал только одну. С периодичностью раз в неделю она приходила за мужем в заведение, расстёгивала шубу, снимала платок и восклицала:
– Костенька, ты, конечно, тут! Как ты, милый? Взять ещё 150 или пойдём домой? Хочешь, на такси поедем?
– Ты кто? – спрашивал, покачиваясь, Костенька, глядя на даму мутными, словно пельменная юшка, глазами.
Она брала «стольничек», томатный сок, пельмени и аккуратно подсаживалась за столик. Соседи приветствовали её появление стоя.
– Ну, давай, Костенька, – предлагала она. – Чтоб не в тягость!
– Ты кто? – спрашивал, выпивая, Костенька.
– Жена твоя, дурачок. Же-е-на! – ласково говорила она, гладя по седеющей голове.
– Нет у меня жены, – отвечал Костенька, ноги которого уже волочились по направлению к дому.
Как оказалось позже, врал. Была у него жена, но другая, тихая и скромная женщина. А эта, в шубе, была ему не жена, но с пельменями и водкой. Любила.
Пельменная на Советской.
Однажды я пригласил барышню в заведение. Мы стояли в сквере у памятника жертвам революции, там, где сейчас громоздится Свято-Михайловский собор.
– Куда пойдём? – спросил я, пересчитывая деньги, не вынимая купюр из кармана.
– Ну ты и место свидания выбрал, конечно… Как Удмуртия – отовсюду далеко. Слушай, а пельменная на Советской работает?
– Представления не имею. А что?
– Хочу пельменей. С уксусом. Горячих, и прямо сейчас! – заявила она.
– Ты уверена? Окрестные псы обходят эту пельменную стороной, и для этого у них имеются все основания…
– «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы!» – процитировала она. – Будем считать, что корейцы.
Пельменная у «Детского мира» – быть может, одна из старейших в Ижевске, по счастью, работала. Я заказал две порции, обозначенные в ценнике как «пельм. из гов. и свин.», хотя «гов.» изрядно насторожило. Получил искомое и подошёл к столику.
– Ромка, я же знаю, как правильно. Беги в магазин, возьми. Хочу, как положено – «доза пельмешей и сто». Давай, беги…
Вариантов у меня не оставалось. Я сгонял в стекляшку, зайти в которую горожан призывал гипсовый товарищ Киров, взял 0,25 «Белого аиста», вернулся. Стаканы мы свернули из бумаги – оригами всё ж таки полезное хобби.
– Давай! – предложила она. – Сябась! – Это что такое? – Удмуртский тост. Есть и самый короткий в мире: «Ю!»
– И, спрашивается, кто из нас филолог? Будем!

Потом я держал её под локоть. Она скользила вниз по Пушкинской, обнимала прохожих и пыталась запустить снежком в трамвай. Делала книксен хмурому менту, хохотала и падала в хорошо знакомый окрестным псам февральский снег.
– Как ты домой пойдёшь? – спрашивал я, ощущая, что снег на её губах ещё не растаял. – Может, останемся в подъезде?
– Они в Бугульме, кадэрле иптеш* Ромка. Ты понял?
– Кажется, да…
Вы знаете, какого цвета любовь? А я знаю – жёлтого. Цвета пачки «Коибы», продававшейся тогда повсюду, уличных фонарей и «Белого аиста», вряд ли бывавшего в Молдавии. Я пришёл домой. Открыл до сих пор любимую книгу стихов и прочитал у Кибирова то, что сам хотел бы когда-нибудь написать:
…только б в пельменной на липком столе
солнце сияло, и чистая радость
пела-играла в глазном хрустале,
пела-играла и запоминала
солнце на липком соседнем столе.
В уксусной жижице, в мутной водице,
в юшке пельменной, в стакане твоём
всё отражается, всё золотится…
Ах, эти лица… А там, за стеклом,
улица движется, дышит столица.
И правда, столица, хоть и Удмуртии, – это особый водоём, и наблюдать за его жизнью лучше из окна пельменной. За стеклом водится рыба, выловить которую – большая удача. Барышня стала опытным рыбаком и в итоге взяла гран-при. Вышла за бизнесмена, который, наверное, и не знает, где на Советской пельменная.

Мой «Италмас».
Это был июль. Солнце цвета кровавого подбоя известного плаща зависло над городом, пахло прибитой дождём пылью, скошенной травой и дизельным выхлопом. Что-то невидимое испарялось с нагретого асфальта, мы шли к «Пельменке» знающими маршрут шагами. Что это был за год, бог весть. Но тогда (и никогда больше) администрация «пельменки» мудро вынесла часть столиков на улицу. Под этими «ромашками» мы и устроились, взяв по «дозе пельмешей», сопровождающего горюче-смазочного материала и кружке пива.
– Снизойди, благодать! – потребовал Анатолич, запивая.
Он быстро дожевал и выпил. Вытер со лба пот и откланялся. А я всё ждал, когда же она снизойдёт, благодать. И она снизошла. За столик присел Сашка. Он солировал в «Италмасе», попал в Афганистан, идя в танковую атаку, обожжённый, получил «За отвагу».
– Привет, сейчас возьму…
Народу прибавлялось. К нам подсаживались солистки и заслуженные танцоры ансамбля.
–Тут почти весь состав. Мамонтова не будет? – спросил я.
– Что ты? – поперхнулся Сашка. – У нас режим! Ноги вырвет, если узнает, а нам в Сургут ехать…
Мы сдвинули четыре стола. Командовала бойкая старушка.
– Кстати, знакомься, Ромка. Тётя Аня, солистка с 59-го по 74-й. Сейчас уборщицей работает, вся жизнь – в ансамбле.
– Ага, первую швабру исполняю, – откликнулась тётя Аня. – Кстати, что за чудеса, сидим, не поём?
– И правда…
– Так, – командовала старушка, – Аркашка и те, кто справа, – первый голос, вы, слева, – второй. Девоньки, ау, подхватываете третьим.
– Что петь-то будем, Ань?
– А пусть Ромка заказывает, он единственный не из «Италмаса».
– «Когда мы были на войне»?
– Без проблем. На счёт три, поехали!
Песня, которую «старый казак» Давид Самойлов написал где-то в 1980-х, лилась по Пушкинской. За ней полились другие: русские, удмуртские, советские и бог весть ещё какие. У «пельменки» начали собираться люди. Кто-то даже подпевал.
Ближе к девяти несанкционированный концерт почтил своим вниманием милицейский «бобик». Выбравшаяся из него группа захвата с короткими «сучками» наперевес встала у ограды.
– Ничего криминального, продолжайте, – успокоил нас молодой лейтенант. – А вот эту можете…
Он не договорил. Неожиданно из-за его спины показалась фигура Мамонтова. Анатолий Васильевич по-дирижерски взмахнул руками, и песня немедленно оборвалась.
– Что, распеваетесь? Смотрю, и солиста нового приняли, – он взглянул на меня.
– Анатолий Васильевич, мы же после трудов, – еле выдавил Сашка. – По чуть-чуть, для голоса.
– Оно и видно… Завтра – к девяти на репетицию. Если кто с запахом – в Сургут не едет. До свидания.
Худрук «Италмаса» очень ловко развернулся на каблуках. Потом обернулся, кажется, подмигнул, взмахнул руками… и песня снова разлилась по Пушкинской ровно с того места, с которого оборвалась:
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла…

Циклы «пельменки».
Говорят, «пельменку» на Пушкинской когда-то называли «Белый налив». Не знаю, я тех времен не застал. Один «Белый налив» помню, но это был продторговский магазин и к распивочным заведениям отношение имел косвенное. Там отоваривались, но чтобы пить – ни-ни, если только в тамбуре. Единственное альтернативное название «пельменки», которое я слышал, – «Дом союзов». И оно полностью отражало суть заведения. Три столика у окон традиционно резервировались за членами различных творческих союзов – писателей, художников, прочих творческих и не очень профессий. За распределением мест зорко следила убиравшая посуду Ксения Петровна. У неё была своя (и довольно своеобразная!) иерархия творческих единиц.
– Николай Исидорович, – восклицала она, встречая очередного завсегдатая, – почему вчера не заходили? Никак, дежурство было? И много ли черепно-мозговых?
– Бог миловал, Ксюша. Двое с ДТП, но холодные, как Фёдор Конюхов в Антарктиде. Трепанировать нечего, холодильник – их последний приют.
– Страсти говорите, Николай Исидорович. Люди до чего легкомысленны! Как я в 20 лет. Трое пацанов. Этот подлец… Вторая судимость. В общем, жизнь наперекосяк. Вам, Николай Исидорыч, не понять, вы – интеллигентная душа. Присаживайтесь, тут свободно, Ванюшку уже забрали, он буянил…
Капитализм в «пельменке» не любили. И правильно – заведение пало, не устояв перед его напором. Теперь в зале, где когда-то обсуждались поэмы и эскизы, пьют кофе хипстеры в узеньких штанах и торопливо едят бизнес-ланчи офисные работники.
Тёплый пельмень на вилке.
Где-то я вычитал, что в нашей передовой во всех отношениях столице работало заведение. Там подавали пиво с характерным резиновым привкусом. Мастер, варивший такое в 70-х, говорят, делился почти утраченным рецептом прямо с больничной койки. За прилавком к радости публики громко хамили «крановщицы». А бабушки с серыми тряпками, протирая столики, исполняли на бис:
– Стоят тут, работать мешают, – и смахивали на пол рыбные хвосты.
Отбоя, утверждает молва, не было. Вернуться в молодость готовы многие. Я почему-то уверен, что когда-нибудь «пельменка» на Пушкинской вернётся, как возвращается мода. Нынешние хипстеры будут закупать гранёные стаканы, искать наиболее мерзкие напитки и живых свидетелей – тех, кто закусывал пельменями из того, что опасно есть.
Впрочем, ели мы всё, что давали. Точнее, закусывали. Рюмочные Ижевска предлагали удивительный ассортимент. В «Минутке»» желающие могли приобрести дольки огурца и карамельки, в «вагончике» у радиозавода – дольки мандарина, уже не помню где, в прейскуранте значилась цена ¼ стакана томатного сока.
Домашняя атмосфера царила в рюмочной, которая находилась в старых дворах на ул. Горького. Чтобы попасть в неё, нужно было, как помнится, пройти через двор, открыть грязную дверь в подъезд и углубиться в подвал. А потом, сжимая мелочь в кулаке, обратиться к мужику за стойкой: «Мне 150». Мужик опытной рукой отмерял положенные граммы. И вместе с ними подавал бонус от заведения – тёплый пельмень на вилке.